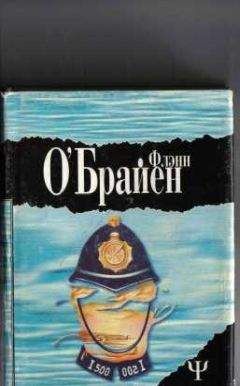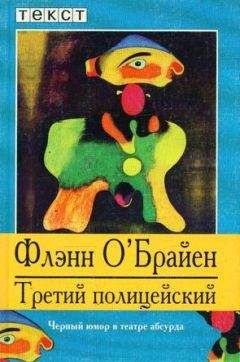– Нет, не доводилось.
– Могу вам сказать, что сделать такой гроб – ох как непросто. Тонкая работа нужна. Только первоклассному столяру справиться, и ведь надо было все сделать не на тяп-ляп, а солидно – тут тебе и руль, и педали, и все прочее. А убийца был, можно сказать, закоренелый преступник, и мы долго не могли его поймать, никак не могли узнать, где он себя прячет, по крайней мере свою основную часть. Нам пришлось арестовать его велосипед в придачу к нему самому, а перед тем мы целую неделю держали их под скрытным наблюдением, хотели точно выяснить, где именно находится главная часть МакДэдда. Нам нужно было удостовериться, не пребывает ли большая часть велосипеда в брюках МакДэдда pari passu – вы ухватываете смысл моих высказываний?
– Рассказывайте, рассказывайте, что же дальше произошло?
– Сержант вынес свое решение после целой недели наблюдений, а его положение, надо вам сказать, было болезненно до крайности, потому что он близко приятельствовал с МакДэддом, не в рабочее время, конечно. Сержант признал во всем виновным велосипед, ну и велосипед повесили. В регистрационной книге мы сделали запись nolle prosequi в отношении другого обвиняемого. Сам я на экзекуции не присутствовал, потому что я весьма чувствительный человек и желудок мой исключительно реакционный[38].
МакПатрульскин поднялся со своего места, направился к буфету и вытащил свою музыкальную шкатулку, производящую звуки столь эзотерически утонченные, что внимать им мог лишь он сам. Усевшись снова на стуле, он просунул руку в приделанные к инструменту ремешки и начал развлекать себя своей музыкой. То, какую именно музыку он играл, можно было приблизительно определить по выражению его лица. А выражение то было простецкого, отнюдь не утонченного довольства, что наверняка являлось свидетельством того, что слушал-играл он громкие, шумливые деревенские, буйные матросские и задорные, крепкие походные песни. Тишина в комнате была столь необычно полной, что начало этой тишины казалось звенящим по сравнению с тем абсолютным отсутствием звуков, которое установилось в ее конце.
Неизвестно, сколь долго продолжалось это жуткое вслушивание в тишину. Глаза мои, уставшие от бездеятельности, закрылись, как двери пивной в десять вечера. Когда они снова раскрылись, я узрел, что МакПатрульскин прекратил свою музыкальную деятельность и явно готовил отстиранное белье и свои воскресные рубашки для прокатывания. Для этой цели он выкатил огромный проржавелый отжимной каток, прятавшийся в темном углу, снял укутывавшее его старое одеяло и теперь подкручивал прижимную пружину, крутил маховик и вообще приводил машину в рабочее состояние. Движения его рук были очень уверенными и ладными.
Закончив подготовку отжимной машины, МакПатрульскин направился к шкафу и принялся вынимать из ящиков разные небольшие предметы: батарейки, инструмент, похожий на миниатюрные вилы, какие-то стеклянные цилиндры с проводами внутри, лампы допотопной конструкции и другие уже совсем непонятные штуки. Все вынутое он приспособил к отжимному катку, и, после того как он завершил их установку, каток этот походил скорее на грубо сработанный научный прибор непомерных размеров и непонятного назначения, а не на простое устройство для отжимания воды из выстиранного белья.
День к этому времени уже превратился в вечер, а солнце вот-вот должно было спрятаться за горизонт на охваченном закатным пожаром западе и готовилось окончательно забрать с собой свой солнечный свет. МакПатрульскин продолжал цеплять все новые аккуратно сделанные предметы на каток, а к металлическим ножкам и другим местам он подсоединял неописуемо хрупкие на вид и изящные стеклянные приборы. Когда он наконец закончил работу, комната почти полностью погрузилась в темноту, а из руки МакПатрульскина, в которой он держал какой-то инструмент, время от времени тыкая им в машину, вылетали голубые искры.
Под катком я приметил черный ящичек, к которому были подсоединены цветные проводки, а привлек он мое внимание производимыми звуками, похожими на тиканье часового механизма. Ящик этот располагался в центре какого-то затейливого устройства, явно изготовленного из чугуна. Надо признать, что весь каток являл собою самое затейливое устройство из всех, виденных мною, и ничуть не уступал по сложности конструкции паровой молотилке, если заглянуть внутрь нее.
Проходя мимо стула, на котором я сидел, и наверняка направляясь за какой-то еще одной нужной ему деталью, МакПатрульскин глянул на меня и обнаружил, что я не сплю и смотрю на него.
– Если вы обеспокоены тем, что темно, сообщаю вам, – учтиво сказал МакПатрульскин, – что я хорошо вижу в темноте, но тем не менее я сейчас засвечу свет, затем прокатаю его в катке с целью развлечения и отыскания научной истины.
– Мне показалось, вы сказали, что прокатите свет в катке. Я не ослышался?
– Нет, не ослышались. Подождите – и сейчас все увидите.
Что именно сделал он в следующее мгновение, я установить не мог по причине мрака, но где-то внутри катка засветился жутковатый огонек. То был точечный огонек, который просто светил и ничего не освещал, и свечение его не было похоже на электрическое; он не был ни круглым, ни вытянутым. Он не подрагивал, как огонек свечи, но и не был совершенно неподвижен. Такой огонек у нас в стране не увидишь, возможно, его произвели где-то за границей, используя особое сырье. То был какой-то весьма мрачный и темный огонек, и скорее можно было сказать, что то был и не огонек вовсе, а просто пятнышко на катке, лишенное темноты.
Дальше произошло нечто удивительное. Я видел силуэт МакПатрульскина, копающегося у отжимочной машины. Его ловкие руки что-то подкручивали и закручивали. МакПатрульскин время от времени нагибался и возился с чем-то в нижней части своей странной железной машины. Затем он выпрямился во весь рост, обрел свои собственные размеры – пока он склонялся, то казался совсем маленьким – и стал крутить какое-то колесо. Крутилось оно очень медленно и неохотно, издавая громкий скрип, наполняющий собою все вокруг. Как только МакПатрульскин начал его крутить, тот необычный огонек стал менять свой вид и местоположение, но описать эти изменения исключительно сложно. С каждым скрипом колеса огонек становился все ярче и плотнее по наполненности светом и подрагивал при этом исключительно мелкими, едва заметными подрагиваниями, которые становились все быстрее, так что в конце концов установилось нечто вроде невероятно быстрого биения, происходившего внутри некоего очень малого пространства, ограниченного наиболее далеко друг от друга разошедшимися подрагиваниями. Свечение становилось по тону все холоднее и все сильнее, и его мощный фиолетово-синеватый блеск настолько засветил внутренний экран моих глаз, что когда я отвел взгляд в сторону, чтобы сохранить неповрежденным зрение, мне продолжало казаться, что это гадкое свечение по-прежнему и с такой же интенсивностью проникает ко мне в глаза. МакПатрульскин продолжал крутить ручку колеса и вдруг, к моему дикому ужасу, от которого у меня внутри сделалось невыносимо тошно, свечение словно бы взорвалось и исчезло, и одновременно раздался страшный перепонколомаюший крик – крик, который никак не мог бы вырваться из человеческой груди.
Я едва не упал со стула и удержался лишь на самом его краешке. Так я и сидел, застыв без движения, и с непреходящим испугом смотрел на темный силуэт МакПатрульскина; тот снова присел, уменьшившись в размерах, и что-то делал с маленькими, научно-приборными добавлениями к отжимочной машине – что-то опять подкручивал, приводил в порядок, производил текущий ремонт – и все это почти в кромешной тьме.
– Ччччччччч-то э-тттттттто был за крик? – выдавил я из себя заикательно.
– А это я вам скажу сразу после того, как вы проинформируете меня касательно до того, какие слова были выкрикнуты. Что, по вашему мнению, прозвучало в крике?
Еще до того, как МакПатрульскин задал мне вопрос, я уже ломал себе голову над тем, что же такое послышалось в этом крике. Голос, который не мог принадлежать никакому земному существу, действительно что-то выкрикнул, но так быстро, что трех или четырех слов, слившихся в едином вопле, разобрать не удалось. Разные фразы выплывали у меня в голове, и каждая из них вполне походила по звучанию на набор звуков, вырвавшихся в страшном вопле. Все эти фразы были самыми обычными, мне часто доводилось слышать подобные, когда их выкрикивали по разным поводам:
Пересадка на Шилела! Гол! Два один! Смотрите под ноги! Кончай его! Но я был уверен, что в услышанном мною крике прозвучали совсем другие слова, не такие глупые и тривиальные, потому что крик этот меня взбудоражил и напугал чем-то скрытым, но исключительно важным и жутко сатанинским.
МакПатрульскин смотрел на меня, и я видел, как в темноте хитро-вопросительно поблескивают его глаза.